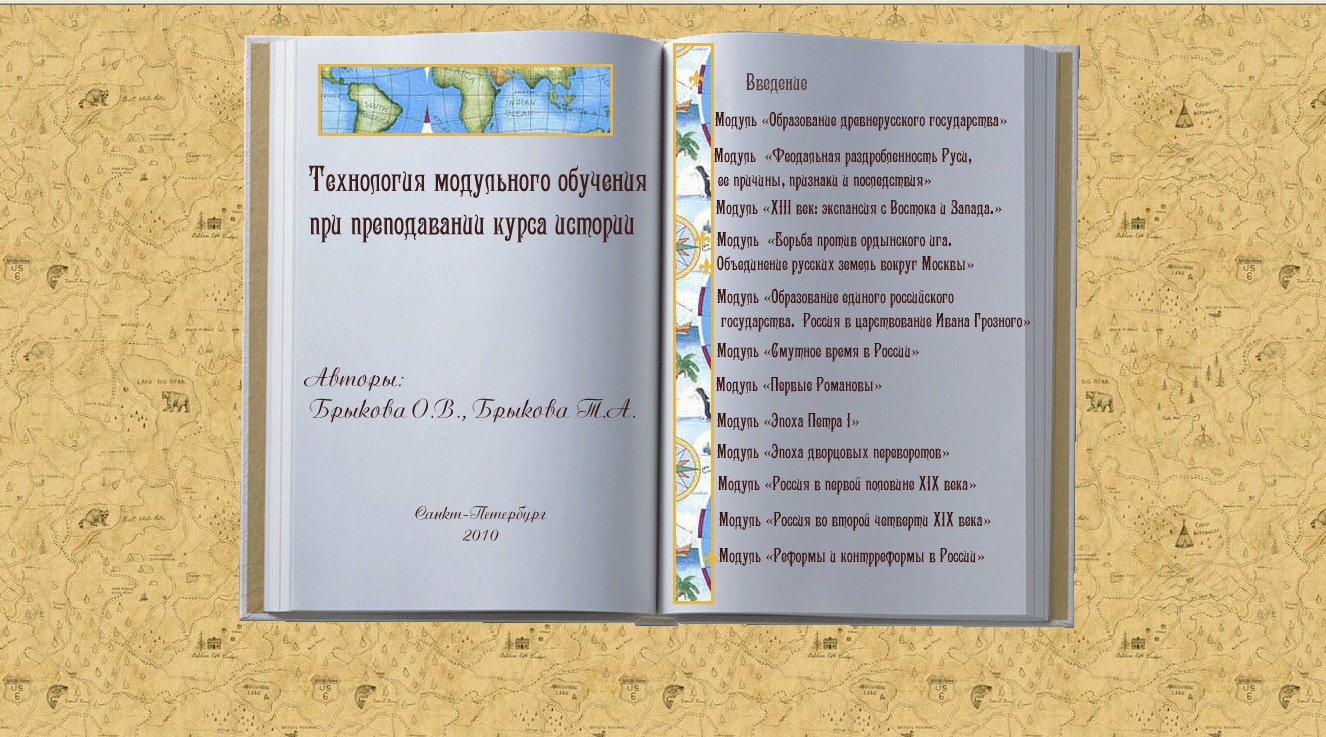Возвратившись
из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне
были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией
под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и
Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами,
отвергавшими все, бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами,
отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры
в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда на два
месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли
православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество
женщин и пр., и пр.
Война наша сильно
занимала литературные салоны в Москве. Вообще Москва входила тогда
в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные
вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни.
Появление замечательной книги составляло событие; критики и антикритики читались
и комментировались с тем вниманием, с которым, бывало, в Англии
или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех
других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества
в книжный мир, и в нем одном, действительно, совершался глухо и
полусловами протест против николаевского гнета, тот протест, который мы
услышали открыто и громче на другой день после его смерти.
В лице Грановского
московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль
умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно
протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием
петербургского правительства...
...Говоря
о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда
царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где
смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов
встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец,
А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши
в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал
за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал
в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост,
который все знали; где Редкин выводил логически личного бога, ad mayorem
gloriam Hegelij; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью;
где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый,
с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и
православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную
форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев
мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье
до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков пантеистически
наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал,
как Конгри-вова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало...
...Москва сороковых
годов принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и
барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами
за К. Аксакова или за Грановского, жалея только, что Аксаков слишком
славянин, а Грановский недостаточно патриот.
Споры
возобновлялись на всех литературных и не литературных вечерах,
на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю.
В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева,
в воскресенье у А. П. Елагиной.
Сверх участников
в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали
охотники, даже охотницы и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто
из матодоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том
роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что
за Рогожской заставой.
Ильей Муромцем,
разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович
Хомяков. «Горгиас, сово-просник мира сего», по выражению полуповрежденного
Морошкина. Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый
на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо
проспорил всю жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и
преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда
без молитвы выйти нельзя, — словом, кого за убеждение —
убеждение прочь, кого за логику — логика прочь.
Хомяков был,
действительно, опасный противник; закалившийся старый бретер диалектики, он
пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый
человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари,
караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он
был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего
славянского воззрения все на свете, от казуистики византийских богословов
до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда
ослепляли и сбивали с толку.
Хомяков знал очень
хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем
издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и
убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли у него
у самого что-нибудь заветное. Он мастерски ловил и мучил на диалектической
жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил
в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, как казалось,
от души. Я говорю «как казалось», потому что в несколько восточных чертах
его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство
вместе с русским себе на уме. Он, вообще, больше сбивал, чем убеждал.
Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом
дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность —
способность развивать зародыши, или зерна, иначе получаемые, относительно
готовые (то есть даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум
оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию
за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет
ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии и пр.
На этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией и
наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие
ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и
под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу
и заставлял их падать в «материализм», от которого они стыдливо
отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков
торжествовал!
Присутствуя
несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз,
когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим
выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями
и вперед улыбался.
— Знаете ли
что, — сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли, — не
только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося
в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе,
как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели и которое может и
продолжаться и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что
история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим,
с планетой.
— Я вам и
не говорил, — ответил я ему, — что я берусь это доказывать; я
очень хорошо знал, что это невозможно.
— Как? —
сказал Хомяков, несколько удивленный. — Вы можете принимать эти страшные
результаты свирепейшей иманенции и в вашей душе ничего
не возмущается?
— Могу, потому
что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.
— Ну вы,
по крайней мере, последовательны; однако как человеку надобно свихнуть
себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами вашей науки и
привыкнуть к ним.
— Докажите
мне, что не-наука ваша истиннее, и я приму ее так же откровенно и
безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть
к Иверской.
— Для этого
надобно веру.
— Но Алексей
Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет».
Многие и некогда я
сам думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что
глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его
манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я
не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения
их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и
не служившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он, или
плакал, — это зависело от нерв, от склада ума, от того, как
его сложила среда и как он отражал ее.
|
 Конкурсы для учителей
Конкурсы для учителей